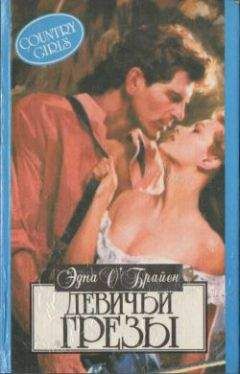– Я ненавижу его, – сказала я птицам, которые собирались вить гнезда. Они издавали разные звуки, прочищая горлышки перед тем, как залиться трелями.
– Радуетесь? – горько сказала я, глядя на птиц и гадая, с кем сейчас Бэйба и встречается ли она еще с Тодом Мидом? Я думала или, точнее, старалась думать о других мужчинах, с которыми была знакома, но при сравнении с Юджином все они казались просто мальчишками. Вдруг я вспомнила, что он мне рассказывал, как в юности снимал пополам с одним парнем комнату в Лондоне, и каждую субботу каждый из них мыл свою половину пола. Мне это казалось чем-то ужасно неестественным. Я не могла себе представить, зачем нужна такая пунктуальность, зачем рисовать черту посредине комнаты на линолеуме, чтобы, не дай Бог, махнуть тряпкой по чужой территории. У меня в мозгу почему-то зазвучал голос Саймона, который спрашивал меня: «Не тяжело ли вам носить ваши груди?» – и протягивал мне пирожное с тарелки. Я вспомнила все, что он говорил мне про приезд Лоры, его гнусавый визгливый смех стоял у меня в ушах.
Я стояла так с глазами, полными слез, мечтая, чтобы он вышел ко мне.
– Он никогда не женится на тебе, – сказала Бэйба, и теперь я думала, что это правда, потому что он темная лошадка. Все плохое, только что восставшее в моей душе против него, вдруг поменялось на хорошее. И его угрюмость и несдержанность уступила место в моих воспоминаниях тому, сколь нежен он был со мной, как приносил мне тостики в постель и подкладывал мне под спину подушки, чтобы мне было удобнее читать. Меня на какое-то мгновение вдруг порадовала перспектива состариться и иссохнуть, чтобы ни один мужчина уже не смог терзать мое сердце.
* * *
Едва ушло солнце, я озябла. Он пришел за мной, когда уехали гости.
– Хочешь унизить меня при людях? – сказала я, когда он подошел и, наклонившись ко мне, погладил мои волосы и произнес слова извинений.
Густеющая фиолетовая дымка вечера быстро окутывала все вокруг.
– Прости, – сказал он, – я вовсе не хотел обидеть тебя. Я просто подумал, что чашки выглядели ужасно, и матушка все равно начнет ныть по этому поводу, а раз уж так, то лучше сразу было взять хорошие.
– Дело не в чашках, – я почти кричала, – чашки здесь совсем не причем, ты всегда говоришь не о том, что действительно имеет значение, а чашки как раз не то, что имеет значение.
– Ну, будет тебе, будет, – сказал он, обнимая меня и стараясь успокоить.
– Не надо так со мной поступать перед всеми этими людьми!
Меня приводил в ярость тот факт, что все произошло на их глазах. На глазах этого гнусного поэтишки и этих мерзких баб, которые, конечно же, запомнят случившийся со мной скандал на всю жизнь.
– Среди людей, с которыми ты общаешься, нет ни одного приятного или по крайней мере искреннего человека, – сказала я.
– Дитя мое, – ответил он мягко, – люди по большей части не очень приятны и уж совсем не душевны, я хочу сказать, что червяк, наверное, более душевный.
Тут я вспомнила, что слово «душевный» было из разряда оценочных категорий мамы. Лиззи – душевный человек, – говорила она о женщине, которая приглашала нас к себе на чай и угощала бутербродами с кетчупом, она говорила так и о наших родственниках из Дублина, которые были очень скупы и почитали, как нечто само собой разумеющееся то, что всю войну мы посылали им бесплатно домашнее масло. Она не судила людей строго.
– Этот твой Саймон вел со мной разговоры на интимные темы… – пожаловалась я.
– Ах, это… Я просто забыл предупредить тебя. Беда в том, что у него, так сказать, мужские достоинства весьма и весьма скромных размеров, и одна женщина как-то просто высмеяла его.
Сказав это, он посмотрел а фиолетовое небо и на птиц, скрывавшихся в темени ветвей и поющих прощальную песню вечера. Спокойствие, разливавшееся в воздухе, казалось, давало ему ощущение такого счастья, что он едва ли понимал смысл того, что я говорила.
«Ему нравится, – подумала я, – когда его друзья говорят мне гадости!»
– Он очень веселый друг, – сказала я вслух.
– Он не друг, – поправил меня Юджин, – в этой стране так мало людей, с которыми есть о чем поговорить, что следует благодарить судьбу за любой такой шанс, хотя бы перед тобой и оказался дружелюбный враг, говорящий на одном с тобой языке.
Сказав это, он тяжело вздохнул, не переставая смотреть в совсем уже потемневшее небо, словно хотел подняться в него для того, чтобы влиться в его тихое одиночество.
Но я вклинилась в его мысли с очень неприятной вестью:
– Саймон сказал, что Лора отплывает в Коб.
– В самом деле? – сказал он без тени удивления. – Буду очень рад ее видеть.
Я поднялась со скамейки и уставилась в его спокойное, ничуть не смущенное лицо.
– Что ты сказал?
– Что буду страшно рад видеть ее, мы наконец сможем обсудить с ней то, что давно необходимо. Может быть, она наконец согласится на развод, и потом, нам нужно уладить все, что касается нашего ребенка. (Он почему-то всегда избегал называть свою дочь по имени.) – Почему бы Лоре не приехать сюда, и почему бы нам всем не стать друзьями? Вы могли бы помогать друг другу мыть ваши волосы.
– Ты хочешь сказать?.. – начала было я.
Но что, что я могла сказать ему? В этот момент он был для меня просто бесчувственным, безразличным педантом. У меня вырвался вздох отчаяния.
– Хорошо, я напишу ей насчет развода. Мне это нужно, чтобы иметь возможность жениться на тебе, потому что я вижу, как твоя деревенская душенька страдает от того, что не состоит со мной в браке.
Эти слова ранили меня.
* * *
Целый вечер, пока я листала «Анну Каренину», он печатал на машинке письмо к Лоре. А мне до смерти хотелось знать, как он начал это письмо, может быть «дорогая Лора», или «любимая Лора», или просто «моя дорогая», но мне не могло присниться, что я осмелюсь заглянуть ему за плечо.
Мы пошли в деревню, чтобы отправить письмо. Ночь была тепла и казалась почти весенней. Поля намокли, и он даже не обнимал меня.
Полдороги мы проделали по грунтовке, а потом вышли на залитое новеньким гудроном шоссе. Наши ступки оставили след на иссиня-черной поверхности асфальта.
– Здорово, – сказал он, – у нас будет асфальтовая дорога.
Мне кажется, это было единственное, что я услышала. Совершенно упавшим голосом я сказала:
– Разве это честно? Ну, почему нас никто не оставит в покое?
Три письма за это время написал мне отец, еще как минимум пять написал местный приходской священник, и при всем при этом я умирала от мысли, что вот-вот должна была появиться Лора.
– Ты мне говоришь о честности, о порядочности… Этого просто нет в мире, – сказал он усталым голосом.